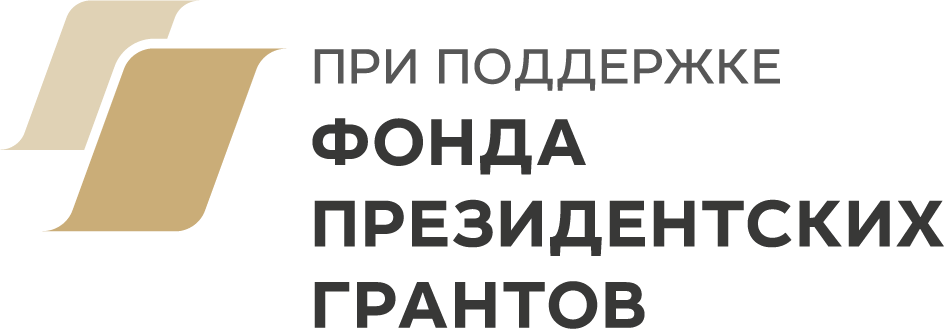Точных данных по деменции в России нет – во многом потому, что люди редко обращаются к психиатрам для постановки диагноза. Чтобы понять реальный размах проблемы, достаточно посмотреть вокруг. В кругу знакомых наверняка есть примеры тех, кто столкнулся с деменцией у родителей или родственников. Деменция – это скрытая эпидемия.
Когда в семье появляется деменция, жизнь переворачивается с ног на голову. Где найти компетентную сиделку, которой можно доверить родного человека? Как выбрать пансионат, где на него не будут кричать или, того хуже, – связывать, бить? Какая помощь вообще доступна в России, если денег на дорогие клиники нет? Об этом и многом другом рассказывают Леонид Колтон, директор центра «Хэсэд Авраам» в Петербурге, и его заместитель Ольга Васильева.
Эта некоммерческая организация – пока единственная в стране, где удалось создать всестороннюю модель помощи горожанам с деменцией и их близким. НКО существует уже 25 лет. Перенимать опыт сюда приезжают со всей России. Сотрудники центра «Хэсэд Авраам», в свою очередь, учились у французов, израильтян и японцев – ездили по домам престарелых в разных странах и брали на заметку лучшие находки.
В отличие от большинства учреждений, которые предлагают что-то одно – психдиспансер, стационар, центр дневного пребывания, – в «Хэсэд Авраам» эти этапы объединены в экосистему помощи: от ранней диагностики и занятий по укреплению памяти до дневного центра пребывания в центре «Лоскутки», где можно оставить близкого на несколько часов и получить передышку, и пансионата-стационара «Курортный». Плюс онлайн- и офлайн-поддержка психологов для родственников людей с деменцией.
Сюда могут обратиться все петербуржцы, вне зависимости от национальности или религии, но попасть непросто: очередь на полгода вперед.
Когда человеку с деменцией лучше оставаться в семье, а когда – переехать в учреждение
Существует стигма: сдать родственника в интернат – предательство. Но главный вопрос не в том, «предадите» ли вы родственника, отправив его в учреждение, а в том, сможете ли вы обеспечить ему достойную жизнь и безопасность.
Деменция – коварная болезнь: человек может забыть выключить газ, уйти из дома и потеряться, упасть и получить травму. Даже с сиделкой 24/7 дома невозможно создать полноценные условия – нужны специально оборудованные пространства, социализация, регулярные занятия.
Леонид Колтон: «Сама формулировка «сдать в интернат» уже создает чувство вины. Но важно понимать: иногда пансионат – это спасение и для больного, и для семьи. Если родственник выгорает, бросает работу, теряет здоровье – кто тогда поможет самому больному?»
Оцените реальные возможности, советуют специалисты. Можете ли вы организовать круглосуточный безопасный уход? Есть ли у близкого шанс на социализацию дома (прогулки, общение)? Попробуйте дневные центры. Если пансионат пугает, начните с малого – отводите родственника в дневные группы. Это даст передышку и покажет, как он чувствует себя в коллективе. Помните: вы не обязаны жертвовать собой. Забота о себе – не эгоизм. Если вы сломаетесь, больному станет только хуже.
Решение о переезде в учреждение должно быть основано не на страхе осуждения, а на трезвой оценке возможностей. Пансионат – не отказ от близкого, а возможно лучший способ позаботиться о нем.
Как проверить пансионат, чтобы избежать жестокого обращения и «закалывания галоперидолом»

Выбирая пансионат для близкого с деменцией, важно в первую очередь обращать внимание на стандартный набор документов (лицензии, сертификаты) и на реальные условия. В хорошем учреждении пациенты будут опрятными, с ними спокойно разговаривают, выводят на прогулки.
Крики, связывание или полуголые грязные люди в коридорах – тревожные сигналы. Особенно важно, как персонал обращается с подопечными: в достойных местах вы увидите, как бережно берут за руку, а не дергают и не орут.
Когда заходишь в хороший пансионат, сразу видишь разницу – там не пахнет лекарствами и страхом, а слышатся тихие разговоры. Персонал не прячет пациентов, а гордится своими подопечными.
Проверьте, сколько человек живут в палате (идеально – не больше двух с отдельным санузлом), как ведется учет лекарств (дозу персоналу выдают строго на прием, а не сразу много, чтобы не было злоупотребления психотропными средствами). И главное – доверьтесь своей интуиции: если после визита остался неприятный осадок, лучше продолжить поиски.
Если пансионат является официальным поставщиком социальных услуг, это серьезный аргумент в пользу его надежности. Такие учреждения регулярно проверяют госорганы – не только на бумаге, но и визитами. Значит, там соблюдают санитарные нормы, пожарную безопасность и базовые стандарты ухода. Чтобы получать бюджетное финансирование, пансионат обязан отчитываться за каждую копейку. Это снижает риск «серых» схем вроде экономии на питании или лекарствах.
Поставщики соцуслуг обязаны документально подтверждать квалификацию сотрудников (медсестер, сиделок). В «подпольных» пансионатах часто нанимают случайных людей без подготовки. Хороший пансионат для людей с деменцией можно отличить по деталям, которые говорят сами за себя.
Леонид Колтон: «В нашем пансионате мы установили камеры в палатах – это не просто контроль персонала, а гарантия безопасности в учреждении».
Сиделке нужны отдых и поддержка
«Это тяжелая работа, – говорит Ольга Васильева. – Попробуйте просто перевернуть в кровати тяжелую 100-летнюю бабушку – а это нужно делать десятки раз за день. Оскорбления, агрессия от пациентов, пусть и в деменции, западают в сердце. Поэтому даже опытные сиделки часто уходят из-за стресса и эмоционального выгорания».
Очень многое зависит от того, насколько пациент тяжелый, насколько контактный, какой у него или у нее характер, агрессивен он или умиротворенный.
Сиделкой в пансионате работать легче – она не оказывается, как в домашних условиях, один на один с пациентом и всеми трудностями, а сразу попадает в коллектив коллег, у нее появляется опытная наставница, она проходит обучение.
«В пансионате у нас в основном работают россиянки, живущие в Петербурге, – говорит Леонид Колтон. – Разные – и молодые, и немолодые, с высшим образованием и без него. Мы находим их по объявлениям, через агентства по найму сиделок и всех обучаем на месте. Я знаю, что сиделок в другие пансионаты часто привозят из провинции – они месяц работают без выходных, вахтовым методом. Потом уезжают. Я сталкивался с тем, что в некоторых пансионатах при вахтах и работе на износ сиделка за месяц получает больше 150 000 рублей. Но долго так невозможно. Мы решили таким путем не идти, потому что нам нужен постоянный коллектив. Мы платим больше, чем получает домашняя сиделка (как правило, она получает 50 000–60 000 рублей в месяц, с почасовой оплатой). Текучки почти нет, некоторые сиделки работают у нас много лет».
Сиделка должна владеть техниками безопасного перемещения (как правильно поднять, перевернуть, посадить человека), гигиены (мытье, смена подгузников, профилактика пролежней). Уметь общаться, если человек агрессивен, тревожен или не узнает близких: отвлекать и успокаивать (музыка, тактильный контакт, прогулки). Понимать стадии болезни (что можно требовать от пациента, а что уже нет). Дольше всего работают те, кто чувствует поддержку – как в пансионатах, где есть коллектив, наставники и возможность передышки».
Ольга Васильева: «После смерти подопечного многие сиделки, работающие на дому, не могут сразу взять нового пациента – им требуется от нескольких недель до месяцев, чтобы эмоционально восстановиться. Это тяжелая потеря, особенно если уход длился годами».

Какие приспособления и технологии облегчают уход за больными деменцией
Для семьи, ухаживающей за близким с деменцией, есть несколько недорогих, но эффективных вещей, которые могут значительно облегчить жизнь. И главное – это важно для безопасности больного человека.
Поручни в туалете и в ванной, душевая кабина без порога вместо ванной – это снизит риск падений. Ковры и лишние вещи, о которые можно споткнуться, надо убрать с пола. Стены и жалюзи лучше выбрать светлых тонов и без узоров, чтобы не перегружать восприятие. В посуде важна контрастность, чтобы еда была хорошо видна, например, хороши однотонные зеленые тарелки.
В продаже есть GPS-браслет с QR-кодом – если человек потеряется, любой сможет отсканировать код и связаться с родственниками (это надежнее, чем надеяться, что он вспомнит адрес). Некоторые устанавливают дома видеокамеры.
Ольга Васильева: «В Москве есть Симуляционный центр и в нем «Комната 40 ошибок» – пространство, где можно почувствовать, как живется пожилому человеку. Там собраны типичные опасности: скользкие коврики, плохое освещение, хрупкие предметы. Это государственный проект, чтобы близкие пожилых людей 80+ могли потренироваться. Его идею можно использовать и дома: пройдитесь по квартире и подумайте, что может быть опасно для вашего близкого».
Не пытайтесь сделать все идеально сразу. Начните с малого, например, с поручней в туалете.
Как дружба в деменции тормозит болезнь и облегчает жизнь
Деменция на сегодня – необратимое заболевание, но ее можно существенно затормозить и улучшить качество жизни – с помощью лекарств и социализации. А с учетом научного прогресса велика вероятность, что радикальное лекарство появится в ближайшем будущем. Сейчас в стадии тестирования находится японский препарат, его ждут на рынке.
Главное – не оставлять человека в изоляции и одиночестве. Социализация и уход могут значительно облегчить жизнь пациента и близких.
«У нас были случаи, когда даже в тяжелой стадии деменции пациенты приходили друг другу на помощь, – делится Ольга Васильева. – Например, две пожилые женщины, за 90 лет, которые раньше не разговаривали и ни с кем не общались, подружились: стали держаться за руки, гулять вместе, и одна даже заговорила. Даже в самых тяжелых случаях общение и забота творят чудеса – не с точки зрения медицины, а с точки зрения человеческого достоинства».
Это не только «болезнь старости», она поражает и молодых, и интеллектуалов. У деменции много форм, просто самая известная из них – болезнь Альцгеймера. В России лидирует сосудистая деменция, причиной которой являются инсульты, алкоголь и травмы. Чем мы старше, тем выше риск – деменция чаще атакует пожилых людей старше 75-80 лет, но среди пациентов встречаются и молодые люди до 50 лет. Женщины сталкиваются с ней в два раза чаще – отчасти потому, что живут дольше. Но и мужчины в группе риска, особенно те, кто злоупотребляет алкоголем и не следит за здоровьем.
Интересно, что в научном сообществе нет единого мнения о профилактике деменции. Одна школа утверждает, что тренировка мозга (изучение языков, игра в шахматы, чтение) может защитить от когнитивных нарушений. Другая школа не находит этому убедительных доказательств. Это не значит, что «мозговая активность» бесполезна, но она не гарантирует защиты.
«У нас в пансионате живут полиглоты и даже профессор Консерватории с тяжелейшей деменцией. Сколько мы знаем актеров с этой болезнью, хотя, казалось бы, всю жизнь учили роли, тренировали память, – говорит Леонид Колтон. – По нашим наблюдениям, мужчины как раз чаще болеют, чем женщины, потому что злоупотребляют алкоголем и меньше следят за здоровьем».
Городские центры дневного пребывания – ближайшее будущее

Ольга Васильева говорит, что их модель ухода за людьми с деменцией можно масштабировать на всю Россию, чтобы каждая нуждающаяся семья вовремя получала помощь – от консультации психиатра до дневного центра пребывания и стационара. Отчасти это уже происходит – как в свое время, например, с хосписной помощью.
Государство сегодня гораздо серьезнее относится к проблеме деменции, хотя многие об этом не знают. Сегодня человек с подозрением на деменцию может обратиться в психоневрологический диспансер – это отправная точка, где поставят диагноз и назначат лекарства.
Леонид Колтон: «Современные диспансеры уже не похожи на страшные учреждения из прошлого. В том же Петербурге многие из них вполне приличные. Важно понимать: государство действительно выделяет значительные средства на помощь. Например, в нашем пансионате до 70% стоимости содержания субсидируется – пенсионер с доходом 40 000 рублей платит только около 25 тысяч в месяц (расходы на одного пациента в день в «Курортном» – 6000 рублей в день). Та же система работает и с уходом на дому. Мы часто ругаем государство, но забываем, что оно уже тратит огромные деньги на эту проблему. Другое дело, что система еще не идеальна, но она развивается».
Посещение «Лоскутков» и занятия в «Центре памяти» при «Хэсэде» в настоящее время бесплатны, проживание в пансионате «Курортный» для петербуржцев на 75% субсидируется из городского бюджета. Например, пациент с пенсией 40 000 руб. платит в месяц за пребывание в пансионате 25 000 руб.
В ближайшем будущем должны появиться городские дневные центры по образцу тех, что уже успешно работают при «Хэсэде». Это вопрос времени и ресурсов – нужны подходящие помещения, подготовленные кадры. Но первые шаги уже сделаны: государство учится у некоммерческих организаций и постепенно перенимает их успешные модели помощи. Главное – этот процесс ускорить и сделать доступным для всех нуждающихся.
И конечно, нужны партнеры из бизнеса. Например, здание пансионата «Курортный» построил инвестор в рамках своей программы социальной ответственности.
«Хэсэд Авраам»: организация специализируется на деменции в Петербурге, предлагая комплексную помощь – от диагностики до пансионата. Уникален адаптированной средой для больных деменцией.
«Старость в радость»: крупнейшая НКО помощи пожилым по всей России. Хотя не специализируется исключительно на деменции, оказывает практическую помощь (уход на дому, улучшение условий в интернатах).
Memini: информационно-образовательный проект. Проводят лекции, тестирования когнитивных функций, поддерживают образовательный портал о деменции. Не оказывают практическую помощь, но дают важные знания.
«Альцрус»: некоммерческая организация, создающая сообщества для родственников людей в деменции («Школа родственного ухода», кафе «Незабудка»). Бесплатные консультации, психологическая помощь, информационные материалы.
Коллажи Дмитрия ПЕТРОВА