Впервые Иван Константинович оказался в центре внимания русского общества в 1844 году. Он вернулся тем летом из путешествия по Европе, куда был отправлен Академией художеств как золотой медалист. Айвазовский за четыре года объехал Италию, Германию, Англию, Испанию, Португалию, Голландию, Мальту и везде имел оглушительный успех. В России уже стали поговаривать, будто он уже и не собирается возвращаться на родину.
Знаменитость в столице
И вдруг летом, даже раньше времени, художник вернулся в Россию. Прибыл как знаменитость: не было человека в светском обществе Петербурга и Москвы, который не слышал бы о нем и его живописи. И всем хотелось познакомиться с ним лично, стать обладателем его картины.
В нем видели едва ли не народного героя. Да и как могло быть иначе, если полотна двадцатисемилетнего художника украшали королевские дворцы Европы и сам он был лично представлен многим монархам?
Он, первый из русских художников, выставлялся в Лувре и получил золотую медаль от французского института художников!
Наконец, сам Папа Римский заинтересовался его картинами и приобрел для Ватикана его «Хаос. Сотворение мира»! Теперь же, по возвращении, Айвазовский стал живописцем Главного морского штаба с правом носить мундир Морского министерства, профессором Академии художеств и, наконец, получил дворянское достоинство.
Знающие люди рассказывали, что художник – талантливый музыкант – самоучка и когда в Петербурге его игру услышал композитор Михаил Глинка, то пришел в такой восторг, что включил эти татарские напевы в свою оперу «Руслан и Людмила».
Говорили также, что дороже родины и семьи для Айвазовского нет ничего на свете. И поэтому, достигнув всего, о чем иные не могут и мечтать, он как будто и не собирается оставаться в столице, а стремится вернуться домой…
Но в последнее даже самые заядлые сплетники верили мало. Сам же художник не только не опровергал слухов о себе, но и подчас сам становился их автором, в духе романтической эпохи мистифицируя свою личность.
«Я женился, как истинный артист»

Периодически слухи о художнике возобновлялись с новой силой, но, казалось, ничем уже Айвазовский не сможет удивить петербургскую публику, жадную до всего нового и необычного. Однако его женитьба в 1848 году на гувернантке Юлии Гревс и последующий отъезд молодых в Крым произвели эффект разорвавшейся бомбы.
И ведь многие знатные семьи готовы были отдать за него своих дочерей, невзирая на его скромное происхождение. А он выбрал сироту и бесприданницу. Художнику шел 32-й год, когда он познакомился с девятнадцатилетней Юлией в доме, где он был на званом ужине. Девушка была красива: высокая, стройная и гибкая, с пышными черными косами, она разительно отличалась от великосветских дам и напомнила художнику его соотечественниц.
Айвазовский писал: «Я женился, как истинный артист, то есть влюбился, как никогда. В две недели все было кончено. Теперь… говорю вам, что я счастлив так, что не мог представить и половины этого. Лучшие мои картины – те, которые написаны по вдохновению, так как я женился».
Преисполненные самых радужных надежд, они отправились в родной город Ивана Константиновича – Феодосию.
Граффити как путевка в жизнь

Именно здесь 29 июля 1817 года, в небольшом домике на склоне Тепе-Оба родился мальчик, названный Ованесом (Иваном).
Отец мальчика Геворк был купцом. Он долго странствовал, пока наконец не обосновался в Феодосии. И здесь уже женился на красавице-армянке Рапсиме. Супруги Гайвазовские поселились за древним храмом Сурб-Саркис на склоне горы в небольшом белом домике с черепичной крышей, где у них родилось пятеро детей.
Дела Геворка Гайвазяна шли неплохо, но после чумы 1812 года он разорился. Тем не менее его избрали базарным старостой. Должность значительная, особенно если учесть, что Феодосия – город многонациональный.
Для того чтобы разрешать споры между армянами и турками, греками и немцами, русскими и караимами, необходимо было не только знание языков, а их отец художника знал не менее шести, но и хорошее понимание особенностей менталитета, способности в дипломатии и авторитет среди всех слоев населения. Геворк, по всей видимости, обладал необходимым набором качеств, поскольку много лет вполне успешно справлялся с должностью. Однако больших денег ему это не приносило.
Семья жила бедно. У родителей не было даже возможности купить бумагу и краски младшему сыну. А ведь у того был несомненный художественный талант. Вообще, мальчик этот был необычным. Забывая обо всем, днем и ночью, он мог часами смотреть на море. После чего брал уголек из самовара и рисовал на белых стенах домов и оград.
Хотя порой вместо рисунков он создавал музыку. Игре на скрипке, как и рисованию, он тоже научился сам – у уличных музыкантов на городском базаре, и поэтому он всю жизнь держал инструмент так, как они, упирая его в левую ногу. И выходило у него играть на скрипке так хорошо, что слушатели плакали над его грустными мелодиями и оживлялись, слушая веселые.
Геворк и Рапсиме видели способности сына и понимали, какие возможности откроет перед ним образование. Но дать его были не в силах. Однако талант мальчика нашел себе дорогу.
Однажды градоначальник Феодосии Александр Иванович Казначеев увидел его рисунки на стенах. Он приехал посмотреть на них специально: то ли соседи пожаловались на Ованеса, то ли просто дошли до Александра Ивановича слухи о его одаренности.
Он приехал, посмотрел и был впечатлен увиденным. Градоначальник познакомился с Иваном и его родителями и подарил первый в жизни художника набор красок и хорошую бумагу. Он же позаботился об образовании Айвазовского-младшего, позволив ему учиться живописи вместе со своими детьми.
Через несколько лет по его рекомендации и при его поддержке Иван поступил в Таврическую гимназию Симферополя.
Так начался путь художника к славе и богатству, которые он употребит наилучшим образом и для себя, и для родной Феодосии.
«Чуть повеет весной – и меня тянет в Крым»

В 16 лет Ивана Айвазовского приняли в Академию художеств. А через четыре года он ее окончил с большой золотой медалью и правом поездки в Европу. Положенную ему стипендию он просил отправлять родителям в Феодосию.
Надо полагать, что именно в этот период у Ивана Айвазовского появляется мечта превратить родной город в культурный центр всего Крыма. Размах идеи впечатляет, но вполне соответствует масштабу личности художника.
Постепенно, шаг за шагом он начинает движение к великой цели и еще до окончательного переезда при любой возможности возвращается домой.
Не только дела зовут его в Крым – художник попросту не представляет жизни без него: «Зиму я охотно провожу в Санкт–Петербурге… Но чуть повеет весной – и на меня сразу нападает тоска по родине, меня тянет в Крым, к Черному морю».
И вот, в 1848 году художник переехал в Крым. Очень скоро его новая вилла в итальянском стиле на самом берегу моря стала сердцем города, его культурным центром. Двери ее были открыты для всех. А в 1880 году художник превратил часть дома в картинную галерею, концертный зал (единственный тогда в городе) и светский салон, привлекающий известных и малоизвестных людей не только Российской империи, но и Европы.
Кто здесь только ни бывал! Приезжали и Павел Третьяков с супругой, художники Семирадский, Шишкин, Куинджи, писатель Чехов и издатель всея Руси Суворин. Католикос всех армян Мкртич I Хримян Айрик провел однажды в доме Айвазовского неделю. Много других известных в свое время артистов, писателей, военных, музыкантов побывали в гостеприимном доме Ивана Константиновича.

Однако не только людей своего круга принимает здесь Айвазовский. Каждый день в определенные часы в его кабинет приходят просители со всех уголков Крыма: слухи о художнике-благотворителе быстро распространились по полуострову и даже за его пределами. Иван Константинович старался помочь всем, кто бы с чем ни приходил. Он не только давал деньги, но и находил для просителей работу или устраивал их детей в учебные заведения. Через свои связи он решал юридические проблемы, оплачивал лечение и покупал одежду для тех, кто ее не имел.
Особый предмет заботы для Айвазовского – девушки из бедных семей. Трудно сказать, судьбу скольких бесприданниц Феодосии он устроил, помогая их семьям и после свадьбы. Десятки людей звали его быть крестным – и он никому не отказывал. А еще сделал посещение своей галереи бесплатным для всех, а детям, бывало, дарил свои миниатюры.
Вот так и случилось, что все без исключения дети города встречали его на улицах радостными приветствиями. Мальчики при этом снимали картузы и кланялись, а девочки делали книксен.
Он выступал попечителем всех учебных заведений города, причем для него это была не просто почетная должность. Художник покупал одежду и учебники для бедных учеников и устраивал приемы в имении Шах-Мамай для гимназистов в конце учебного года. При его содействии была открыта первая в городе общественная библиотека, о которой он заботился постоянно и лично пополнял коллекцию книг.
В 1881 году ему был присвоен статус почетного гражданина, но всеобщую любовь он заслужил намного раньше и давно стал настоящим «отцом города».
Серебро на покупку холста для тюфяков

Сострадание к нуждающимся и бедствующим было одной из наиболее ярких черт Ивана Константиновича Айвазовского. Это в очередной раз подтверждает поступок, совершенный им во время Крымской войны (1853–1856). Он побывал в осажденном Севастополе, чтобы сделать зарисовки для будущих картин и был восхищен храбростью наших матросов.
После, посещая военные госпитали, заметил, что раненые солдаты лежат в палатах на чем попало, а порой и просто на своих шинелях. Это произвело на художника удручающее впечатление. И он тут же пожертвовал 150 рублей серебром на покупку холста для тюфяков, а солому предложил взять из его поместья «сколько потребуется».
Может показаться, что, погрузившись в жизнь и нужды родного края, Иван Константинович отошел от всех прочих дел и больше ничем не занимался. Но это не так: художник регулярно бывал в Петербурге по делам службы в Главном морском штабе. К ней он относился со всей ответственностью и любил носить положенный ему мундир. К концу жизни он был возведен в чин действительного тайного советника (соответствовал должности губернатора с обращением: «Ваше высокопревосходительство»).
Он часто путешествовал и проводил выставки своих работ, которых за всю свою жизнь написал больше 6000. Выставки эти в одних случаях были бесплатными, а в других делались под благотворительные проекты. Например, в пользу бедных студентов Академии художеств или армян, пострадавших в Турции во время резни; для детского дома Ниццы или для пострадавших от наводнения во Флоренции.
Всего он устроил за свою жизнь порядка 125 подобных выставок. Так, еще до передвижников Айвазовский начал знакомить провинциальные города России с настоящим искусством. Однажды его кто-то спросил, почему он пишет только море. На это художник ответил: «Разве? Мне казалось, я пишу человеческую душу…»
Мука от Айвазовского

Чтобы привести Феодосию к новому расцвету, необходимо было обеспечить городу экономический подъем. Художник начинает брать в аренду плодородные, но пустующие земли Крыма. Именно у Айвазовского появились первые в Крыму паровые мельницы, поскольку он выращивал на продажу твердые сорта пшеницы. Его мука пользовалась спросом даже в Европе!
Все это не могло не оказать положительного влияния на экономику Крыма, но если об этой стороне жизни художника мало кто знает, то о строительстве Феодосийско-Субашского водопровода, который Айвазовский безвозмездно передал городу, помнят все.
Ведь к середине XIX века керамические водопроводы, созданные в Феодосии еще генуэзцами, окончательно вышли из строя. Город фактически остался без воды, которая хоть и поступала по одному из сохранившихся водопроводов, но в крайне малых количествах и не отличалась чистотой.
От этого страдали все, особенно в летнюю жару, а в очередях к фонтану драки случались каждый день. Тогда Иван Константинович на собственные средства проводит чугунный водопровод из их с женой имения Су-Баш, до фонтана в Феодосии. Напоминающий восточную беседку, фонтан с четырьмя кранами, был спроектирован самим художником. С 1888 года в город поступает по 50 тысяч ведер чистой родниковой воды в сутки.
Айвазовский хотел дать фонтану имя императора Александра III, но государь, узнав об этом, велел дать название в честь создателя. Так он называется и теперь, хотя воды в нем уже нет. Еще одним знаменательным событием, в котором непосредственно участвовал художник, стало строительство железной дороги.
Ему удалось одержать победу в ожесточенной полемике по поводу того, какой город лучше выбрать для строительства железной дороги. После чего он помогал инженерам и строителям определиться с местом, наиболее подходящим для железнодорожных путей, ведь мало кто знал особенности феодосийского рельефа лучше, чем Иван Константинович.
И хоть дорога отрезала его дом от моря, художник без колебаний поставил благополучие города выше своего собственного. В 1892 году к вокзалу, спроектированному Айвазовским, подошел первый поезд. Художник воспринял это событие как свой личный успех. Впрочем, все положительные изменения в городе он воспринимал именно так.
Кольцо с ибисом и медальоны с всадниками
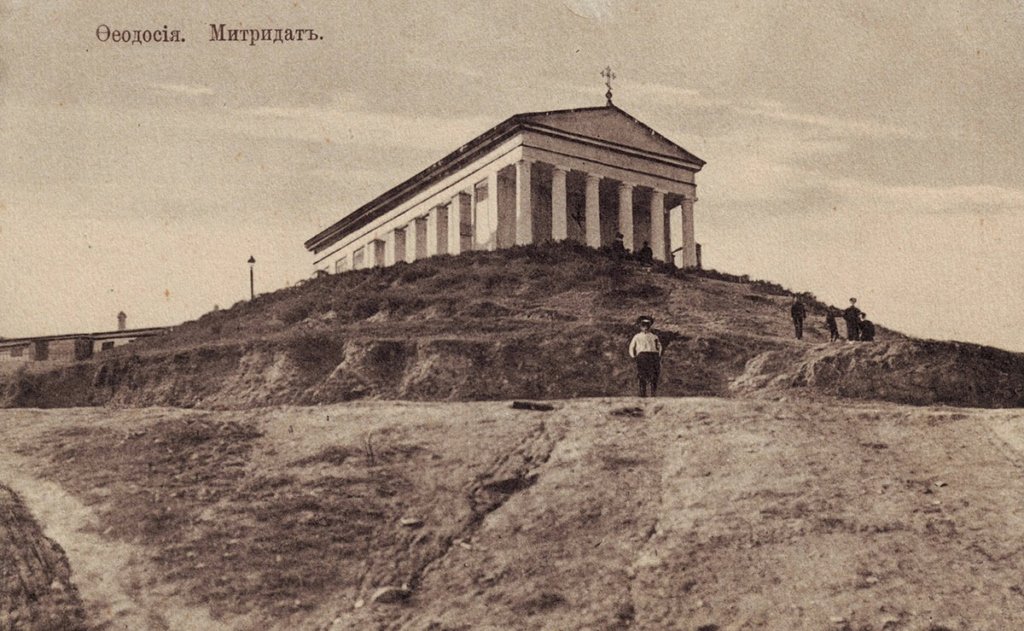
Другое направление, которому уделял большое внимание Айвазовский, – это история города. Художник серьезно занимался археологией! Вместе с женой они проводили раскопки скифских захоронений на окраине Феодосии. Найденные вещи строго фиксировались: Юлия Яковлевна составляла списки с подробным описанием находок.
Заведующий Феодосийским музеем древностей Евгений Францевич де Вильнёв в 1853 году докладывал, что Айвазовским вскрыто 22 кургана, в которых найдены: золотые ожерелья «великолепной работы и прекрасной сохранности», пара золотых серег, в верхней части которых «четыре скакуна, ведомые стоящим человеком, другой человек – тоже стоящий – держит коней», цепочка со сфинксом, серебряные браслеты, золотое кольцо «с камнем, на котором выгравирован ибис», глиняная статуэтка, изображающая женщину с ребенком на руках, а также восемь глиняных медальонов, «представляющих всадника, разящего чудовище» и многое другое.
Находки отправляли в музеи. В коллекции Эрмитажа до сих пор экспонируются искусно изготовленные скифскими мастерами женские украшения из Феодосии, обнаруженные Айвазовским.
«Из твоих глубоких глаз для меня мерцает целый таинственный мир»

Первое время Юлия Яковлевна поддерживала все начинания мужа. У супругов родилось четыре дочери. Но оказалось, что безумная влюбленность и поверхностное знакомство – плохие советчики для создания крепкой семьи. Несколько коротких встреч до венчания не позволили жениху понять, что Юлия, англичанка по происхождению, была особой сдержанной и суховатой в проявлении чувств.
Да и патриархальные традиции армянской семьи казались ей, получившей европейское воспитание, бессмысленными и даже жестокими. Начавшаяся счастливо семейная жизнь постепенно привела супругов к взаимной ненависти.
…Через два года после развода с первой супругой художник заметил красивую женщину в похоронной процессии и не мог отвести от нее глаз. И снова влюбился. Вышло, что с двадцатишестилетней Анной Никитичной Саркисовой-Бурназян они познакомились на похоронах ее первого супруга.
Айвазовскому было уже 64 года, но чувства его были пылкими, как в молодости: «Я люблю тебя, и из твоих глубоких глаз для меня мерцает целый таинственный мир, имеющий почти колдовскую власть. И когда в тишине мастерской я не могу вспомнить твой взгляд, картина у меня выходит тусклая…»
Это был действительно счастливый брак. Он продлился 18 лет, а после смерти художника его вдова 45 лет, до самой своей смерти, носила траур.
Айвазовский легко находил общий язык и с итальянскими маркизами, и с Папой Римским, и с продавцами на феодосийском базаре, и с рыбаками, и с императором, и с художниками , и с композиторами. Но больше всего его любили жители Феодосии, понимая, что он не жалел сил и денег, чтобы сделать жизнь в городе лучше – не столько для себя, сколько для других.
Автор благодарит за помощь в подготовке статьи директора Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяну Гайдук



