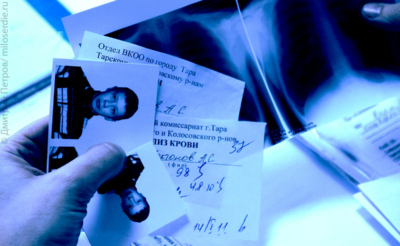Не проходит и месяца без того, чтобы на имя президента Российской Федерации или премьер-министра, или их обоих, не было написано письма, подписанного каким-нибудь встревоженным деятелем культуры или сразу несколькими такими деятелями. То знаменитый кинорежиссер, обеспокоенный падением продаж, то есть, простите, нравственности населения, требует решительного пересмотра внутренней политики страны; то интеллигенция бьет в колокол ввиду очередного сноса памятника старины; то овцевод-миллионер пеняет на неотданную нуждающимся странам до сих Сибирь; то нерадивое судейство провоцирует такую бурю возмущения, что волны достигают самого Кремля, с шипеньем разбиваясь о его зубчатые стены. И это только если говорить про так называемые «открытые письма»! А сколько пишется иных – служебных, частных, конфиденциальных…
Жанр писем к власти появился не вчера: строчили и в советскую эпоху, и во времена царизма. Причем, ничуть не менее усердно. Посланиям русских литераторов российским самодержцам посвящена недавно вышедшая монография Екатерины Суровцевой «Жанр «письма царю» в XIX – начале XX века» (М., 2011).
Книга жалоб и предложений
Старший научный сотрудник МГУ, кандидат филологических наук Екатерина Суровцева не принадлежит ни к числу отправителей, ни к числу получателей таких писем, зато интересуется ими уже давно, о чем свидетельствуют ее исследования схожих явлений в Древней Руси (2009), статьи о советских «письмах вождям» (2008), как называл их Александр Солженицын, и анализ переписки Горького с большевиками (готовится к печати).
На сей раз задача Суровцевой – суммировать и осмыслить то, что нам известно об этом специфичном виде эпистолярной деятельности на материале русской жизни XIX – начала XX веков. Задача тем более сложная, что выбранный период изобилует разнообразнейшими по характеру обращениями представителей дворянства и интеллигенции к российской верховной власти – в первую очередь в лице пяти ее императоров романовской фамилии – трех Александров и двух Николаев.
Впрочем, вопреки названию, этот труд не претендует на систематизацию всех имеющихся в архивах корпуса писем монархам от наших предков – покамест автор решил ограничиться эпистолами литераторов, оставив за бортом немаловажные и многочисленные, но, безусловно, не имеющие такого же общественного резонанса (и еще чаще – не рассчитанные на него) послания ученых, политиков, религиозных деятелей и прочих обывателей.
С другой стороны, используемое автором понятие «письмо царю» оказывается до некоторой степени метафоричным, ибо подразумевает, как указывает автор, не только непосредственно монархов в качестве адресатов, но и других особ Царского дома (императриц и цесаревичей, которым писали зачастую не меньше), а также влиятельнейших министров и сановников (таких, как, например, С.С. Уваров или М.А. Дондуков-Корсаков, Д.Н. Набоков или П.К. Победоносцев).
Рассматриваемая книга – научная монография, соответствующая стандартам специальной литературы, а потому в ней есть и примечания, и краткая библиография. Кроме них, читатель найдет также симпатичное приложение – список всей периодической литературы изучаемого времени, то есть перечень всех журналов, газет, еженедельников, альманахов XIX – начала XX века с указанием периода издания (одних журналов, например, приводится аж 130 позиций; впрочем, журнальный формат, судя по перечню, был самым популярным). Соответственно, «Письма царю…» можно рекомендовать не только литературоведам и историкам, но всем, кого интересует русская культура с ее проклятыми вопросами и непрерывным противостоянием интеллигенции и власти. Кроме того, рискну предположить, что поскольку никаких архивных откровений, ни какой-либо методологической или концептуальной «инновации» в книге не предложено, основная ее ценность – как это ни парадоксально в отношении научной монографии — именно в познавательности для широкого читателя.
Не обошлось, увы, и без полиграфического брака: в рецензируемом издании, выпущенном АИРО – XXI (серия – монография, т. 27) то ли из макета, то ли при печати, «выпали» страницы 37 и 38 авторского текста, в которых речь должна была идти о конце правления Николая I и о начале правления Александра II. Будем надеяться, что книжка будет перевыпущена в исправленном виде.
Доложить об обстановке
Несмотря на то, что обращения писателей носят самый разный характер – от крайне личного (Пушкин, например, писал дважды и каждый раз по достаточно интимным поводам – например, о сплетне про то, как его якобы высекли в тайной канцелярии) до громогласно-публичного (выступления Герцена за подписью Искандер или «Письма без адреса» Чернышевского), разговор о них неизменно предполагает введение в контекст сложившейся к моменту написания текста социокультурной ситуации в стране.
А потому первая глава книги, разбитая на пять параграфов-эпох (по числу пяти царствований), предусмотрительно посвящена описанию этого зыбкого, непрерывно меняющегося контекста. Особенности перехода короны от одного правителя к другому; общеполитические, социальные и (коротко) экономические итоги каждого правления; атмосфера в обществе (то есть, в среде культурно и политически активной); передовые идеи и самые обсуждаемые проблемы времени; смена магистральных художественных направлений (если в виде грубого конспекта: классицизм – романтизм – реализм – символизм) и связанная с ней ротация наиболее обсуждаемых и влиятельных литераторов; важнейшие салоны и кружки; издательская деятельность и противостояние различных группировок (пример: славянофилы с «Москвитянином» и западники с «Отечественными записками» и «Современником»); развитие революционных идеологий и всевозможные попытки, в том числе правительств, подавления их или оппонирования им (от уваровского триединства «Православие – Самодержавие – Народность» до столыпинских фундаментальных преобразований) – обо всем этом читайте в первой главе.
Специалист найдет здесь нечто новое едва ли, а вот интересующимся дилетантам, абитуриентам и студенчеству такая краткая история XIX – начала XX века может быть, говоря медицински, «показана» без ограничений. В пересказе, насыщенном фактами, Суровцева не пробует как-либо обобщать, итожить, резюмировать исторический опыт каждой из пяти эпох; не делает попыток «сжать» пережитое за 117 лет, чтоб уместить его в прокрустовой кроватке той или иной концепции. Что, с ее стороны, весьма благоразумно (при помощи традиционного литературоведческого инструмента, которым орудует автор, такая попытка провалилась бы с треском), а с другой стороны, читательской – усиливает сходство авторской работы с каким-то полуанонимным справочным пособием, в котором автора (а вместе с автором и то, что он хотел сказать) не сыщешь днем с огнем.
Четыре комнаты
Во второй главе Суровцева переходит к жанровым особенностям «писем царю» и к образу адресанта. Понятно, что рассматривать весь этот чуть ли не бескрайний и бесформенный материал «как он есть» – невозможно; любое изучение начинается с постановки задач и расстановки приоритетов. Суровцева решает типологизировать имеющиеся в ее распоряжении эпистолы, о чем предупреждает еще во введении. Всего она обнаруживает четыре разновидности писательских посланий: «письмо-декларацию», «письмо-донос», «письмо-жалобу/просьбу/оправдание» и «письмо-дифирамб/благодарность/творческий отчет». Собственно, отсюда – рискнем предположить – и начинается, вероятно, то, что мы можем считать ее вкладом как ученого в исследуемый объект.
Конечно, все эти четыре риторических разновидности «употреблялись» литераторами в ходе их стихийной, ненаучной жизни беспорядочно – как Бог на душу положит. А потому представлены они в архивах тоже неравномерно.
Вот, скажем, «деклараций» оказалось понаписано немало. И многие из них дошли до наших дней, и часть нам с вами хорошо известна. А «просьбы» – штука по определению и тихая, и деликатная, во внимании посторонних не нуждающаяся. Причем, обращались к просьбам, видимо, не реже, а гораздо чаще, чем к хваленым громким декларациям. Суровцева, увы, подсчет не производит – мы делаем здесь этот осторожный вывод лишь на основании трех совокупных наблюдений: а) многие писатели, оставившие «декларации», отметились также «просьбами»; б) есть и такие, кто адресовал «царю» лишь «просьбы», в) крайне мало тех, кто только «декларировал».
«Доносы» (многим из которых не нужны кавычки) – совсем уж «тонкая» история, на лавры и софиты претендующая еще реже «просьб». Но правомочен ли на этом основании вывод о меньшей к ним любви среди ревнивых перьев, радеющих об общем благе? Сравнительный подсчет и здесь не помешал бы – но, увы.
И, наконец, из «дифирамбов» в адрес высшей власти мы имеем, признается автор, лишь один, не самый интересный образец. И даже не письмо – скорей записку. Написанную Чеховым Великому Князю К. К. Романову. Писатель в ней благодарит за полученную от князя посылку с двумя книгами – сборником стихотворений самого «К.Р.» (его литературный псевдоним) и свежевыпущенным переводом «Гамлета».
Кто здесь?
Сколь разнохарактерны предложенные автором четыре типа писем, столь же разнородным получился разговор о них.
Параграф, посвященный «декларациям» (особо тем, что вызывали резонанс и порождали даже некие последствия), простерся на честные двадцать страниц, не считая мелких примечаний. Здесь тоже не обходится без авторского произвола (в котором автор честно отдает себе отчет): во-первых, выбраны лишь знаменитости, а во-вторых, повествование кружится вокруг не столько даже собственно посланий – того же Герцена и Чернышевского – сколько биографий персонажей. Другие упомянутые и коротко рассмотренные письма этого параграфа принадлежат Л.Н. Толстому, Достоевскому и Тютчеву.
Заметно меньше места занимает рассмотрение «писем-жалоб», и то благодаря мытарствам «Мертвых душ» (блужданиям их по цензорскому аду) и гоголевской ипохондрии. А еще обостренному чувству справедливости Льва Николаевича Толстого, который за кого только не просил. То за террористов Желябова, Перовскую и иже с ними (опережая век – но не Евангелия – Толстой, тогда еще не разошедшийся с Церковью, считал, что долг монарха-христианина – показать себя выше убийц и отказаться от смертной казни); то за молокан (у которых, ни много ни мало, отбирали детей); то за какого-нибудь сосланного на Кавказ духобора… и так далее со всеми остановками.
Даже в этом «почтовом» контексте Лев Николаевич заслуживает самостоятельного разговора, к которому хорошо бы как-нибудь вернуться. Ибо по разнообразию и интенсивности «писем царю» он – настоящий мастер этого жанра, гроссмейстер среди мастеров, виртуоз среди виртуозов. Мы акцентируем внимание на этом (не таком уж неизвестном) факте лишь потому, что сдержанная Суровцева не упомянула об этом ни слова. Собственно, и сам термин «письмо царю» заимствован исследователем у графа, который так бесхитростно назвал одно из своих обращений, написанное в 1881 году.
В параграфе о «доносах» (который, теоретически, мог бы стать пикантнейшей, филейной частью книжки) Суровцева решила ограничиться: 1) упоминанием трудов Скабического и Лемке; 2) цитируя с грехом напополам А.И. Рейтблата, кратким, в полторы странички, пересказом знаменитого «сотрудничества» печально известного журналиста Булгарина с не менее печально известным III Отделением.
И уж совсем в один абзац вместился параграф про четвертый тип посланий с его незадачливым Чеховым, имевшим некогда неосторожность поблагодарить К.К.Романова за присланные книги и теперь отдувающимся за всех.
(Апропо: тот факт, что сей нехитрый документ – единственная, сохранившаяся за 117 лет разновидность «письма-дифирамба/благодарности…» – если, конечно, положиться в этом непростом вопросе на Суровцеву – не лучшее ли из доказательств нашей большей близости демократической и независимой Европе, нежели подобострастной и велеречивой, сладко-льстивой Азии?)
Не дает ответа
Здесь сам собой возникает вопрос: а что дает предложенная автором классификация? Насколько мы расширим наше представление о Достоевском, назвав «декларациями» те две его записки-комментария на имя цесаревича Александра Александровича (будущего Александра III) – о романе «Бесы» (1873) и о «Дневнике писателя» (1876)? Что мы узнаем нового, назвав аналогичным образом увещевания Чернышевского и Герцена? Что обретем, если объявим учтивую записку Антон Палыча разновидностью №4?
Похоже, ровным счетом ничего – но это полбеды. Немало ведь осталось документов, которые с большой натяжкой, с явной неохотой и кряхтеньем способны соответствовать проставленному ярлыку.
Так, правомочно ли объявлять «декларациями», как это делает Суровцева, служебные записки Тютчева (поэта и по совместительству действительного статского советника и дипломата), в которых Федор Иванович излагает свои – как сказали бы сегодня – евразийские воззрения, доказывает антагонизм России и Европы и постулирует, что «Восточная Церковь есть законная Наследница Всемирной» (с. 101)? Насколько совместимы с гордым званием «декларации», во-первых, приватный характер записок, а во-вторых, их должностной, служебный статус? Хорошенькие выходят декларации, предназначение которых быть прочитанными одной, не больше, парой глаз (пусть даже многое из сказанного в этих текстах попутно, ранее или впоследствии звучало в публицистике поэта.)
Подобные примеры можно продолжать, но мы лишь подчеркнем, что по своей природе многие эпистолы (не обязательно глубокомысленные, не обязательно подписанные великим человеком) отчетливо противятся навешиванию на них нехитрых бирок, и это ускользание – естественно. Микроскопический сдвиг точки зрения (случившийся, как вариант, в результате новых обнаружившихся фактов), и «декларация» окажется (ну, например) «доносом». А «просьба» преспокойно превратится в «декларацию» (таковы, кстати, многие письма Толстого). Про «благодарности», кажется, и вовсе нечего доказывать: все знают, сколь амбивалентными, коварными и даже изуверскими они бывают – не отличить от обвинения при самом ярком свете. Бывает и сложней – когда понятие «сарказм» не помогает не всегда, и весы с «буквальной» похвалой и «саркастичным» осуждением на чашах показывают удивительный баланс.
Короче, то, что представляется как некий вклад исследователя в рассмотренную тему (типологизация, благодаря которой можно сделать те или иные выводы, увидеть нечто, ранее сокрытое), осталось наиболее проблематичным. Возможно, это неопределенность объяснима тем, что монография – лишь часть амбициозного исследования жанра «писем во власть», которым Суровцева занимается уже не первый год. Возможно, мы еще увидим ослепительные выводы и фейерверки неожиданных, спонтанных соответствий, которые нам вдруг подарит изучаемый ей материал.
А ты кто такой?
Не более убедительны выводы и в последней, третьей главе, лаконизм которой, кажется, означает авторскую усталость и желание поскорей отвлечься.
Суровцева констатирует – судя по всему, считая это наблюдение важным достижением своей работы – тесную взаимосвязь образа адресата (получателя письма – монарха, шире – государственной власти) с убеждениями адресанта-отправителя: эка невидаль. И показывает, как этот образ может изменяться в зависимости от жанра и прагматики послания: а как иначе?
Боюсь, что даже скромно разбирающийся в отечественной словесности читатель не почерпнет в этой главе чего-то интересного – разве что на уровне отдельных фактов. Суровцева пишет – тут же признавая, что это общие места в современной русистике – высокопарный и благоговейный тон Пушкина и Гоголя во многом обязан, в числе прочего, их монархическим взглядам. А чрезвычайно вежливый ответ Антона Палыча – возможно, просто дань учтивости писателя (ну кто, скажите, в этом сомневался?). Автор также обращает наше внимание, что в сочинениях Герцена и Чернышевского царь предстает скорее политическим противником, чем государем; перечисляет многоликость образа царя в посланиях к нему Льва Николаевича Толстого – от принятых официальных обращений до замечательного позднего «любезный брат» (1902).
Похоже, чтобы плодотворно браться за исследование столь богатой, но довольно «психологизированной» темы, как письма власти, филологам нужна поддержка каких-либо смежных наук.
Пожизненные члены союза писателей
Какое ощущение остается неизменным фоном, когда читаешь эту книгу и воображаешь в красках ту или иную обстановку, окружавшую авторов этих писем? Когда представляешь детально коллизию, часто житейскую, заставившую, однако, взяться за перо и потревожить первое лицо империи? Скромные прошения Пушкина; неврастенические и самоуничижительные ламентации Гоголя; безрассудно смелые, самоуверенно-высокомерные нравоучения Чернышевского; упрямые, принципиальные до маниакальности вразумления Толстого?
Как это ни странно: неизменным фоном остается ощущение живейшей актуальности. Практически сегодняшнего дня. Абсолютистская монархия сменилась конституционной; Родзянку с Керенским смели большевики; большевиков по очереди вместе с косточками съел товарищ Сталин; возникший после Сталина режим обрел себя, путем проб и ошибок, в геронтократии слегка древнеегипетского типа; геронтократии пришла на смену перестройка, перестройка породила Ельцина; и наконец – опустим несколько болезненных этапов – образовалась современная Россия.
Воздержимся давать оценки современности. Представим, что они – оценки – могут быть любыми, а некоторая существенная правда все равно останется, спокойно пережив все наши расхождения.
Вот, например, одна такая правда: все эти годы, что бы ни менялось, каждый месяц, каждую неделю, каждый день мы пишем нашим лидерам депеши. Тогда царям, потом большевикам, теперь двум, «всенародно избранным». Мы продолжаем просить о заступничестве, докладывать о неблагонадежности соседа, науськивать на окружающие страны, приносить присягу, божиться в преданности до гробовой доски. Особо дерзкие из нас – учат высшую власть уму-разуму.
Повторение и различие
А сколько параллелей с тем и нашим временем! Ведь это тоже правда, тоже невозможно спорить. Да взять хотя б одну такую параллель – о двух сидельцах, позапрошлого века и нынешнего. Пусть один из них беден, а другой сверхбогат. Пускай в порядочности одного никто не сомневается, а в честность второго не верит подавляющее население страны. Неважно, что один попал в тюрьму из-за открыто проповедуемых взглядов, а второй – недооценив соперника и проиграв в борьбе, сюжет которой и поныне остается тайной. Контрасты, как ни странно, не ломают, но усиливают интересующую нас «параллель» – если только мы не будем корчить из себя экспертов, этих «объективных идиотов», как называл таких (порой весьма информированных) людей философ Александр Пятигорский.
Впрочем, если хотите, хватает и сходства. Например, оба (один официально, другой – по часто звучащему мнению, негласно разделяемому многими) сидят за антигосударственную деятельность. Посадка обоих вызвала нешуточные и многолетние треволнения в обществе, расколов его как минимум на две неравные части. Оба часто объявляли голодовку. Оба ловят власть на систематическом попрании закона; оба пишут о беззаконии своего ареста и, еще больше, о том, как обустроить Россию (впрочем, второй стал графоманом лишь в камере). В обоих случаях во все концы страны летали и летают письма. Нюанс: царей просили (или требовали) узника помиловать; а в нашем веке плюрализм, и потому одни настаивают на освобождении, а остальным хотелось бы, чтобы оставался за решеткой до скончания времен. В обоих случаях амнистия разыгрывается как царский/президентский козырь в политической игре, как неподдельное свидетельство правителя о чистоте намерений.
Отсюда снова начинаются различия, и снова все они красноречивы. Спустя примерно десять лет сидельцу XIX века предложено освобождение – настолько сильным было потрясение молодого государя от только что случившейся гибели отца, убитого так называемой «Народной Волей»; при этом террористы требовали скорейшего освобождения каторжанина. Тот, впрочем, отказался подавать прошение, но постепенно все же был освобожден. Сидельцу нынешнего века, едва не отсидел он первый срок, тотчас придумали второй, нелепый даже по словам вчерашних недоброжелателей, приветствовавших первую посадку.
Еще раз, чтобы стало более понятно: не в том вопрос, кто прав, кто лев; кто виноват, кто невиновен, или к чему все это непременно приведет. Мы просто наблюдаем историческую параллель, способную немало рассказать без точных соответствий и без наших, зачастую совершенно лишних, мыслей о предмете. Воздержимся от быстрых умозаключений.
Петр ГРИНЕВ мл.